 А. И. Холод, бригадир-проходчик шахты |
|
Если можно так сказать, я родился от двух отцов, потому что мать моя, будучи беременной, замуж вышла второй раз. Родом я из Донбасса. До шести лет я жил при матери. Когда мне исполнилось шесть лет, приехал к нам в деревню дед со стороны первого отца и забрал меня в Терскую область, где происходила нарезка земли и деду выгодна была прибавка за счет моей «души». У деда я прожил три года. Житье было незавидное, о чем соседи написали матери письмо, и она, что называется, опять прибрала меня под подол. До двенадцати лет я учился, а затем поступил в шахту «Горьковская» глейщиком, потом стал работать лампоносом, потом мазилкой, потом плитовым (вагонщиком). В 1919 году нагрянула ко мне тетка со стороны первого отца и оплакала деда и дядю, которые были убиты белыми. Бабушка осталась одна, работать некому. Я разжалобился на столь горестное состояние, но крестьянствовать от отсутствия привычки мне не понравилось, и я вернулся на рудники. Поступил я на шахту «Чайкино», где пробыл до 1923 года, причем одно время работал и на шахте «Пастуховка». Это был как раз тяжелый период голодухи, и мне пришлось работать сразу на двух шахтах: на одной семь часов, на другой восемь часов. Отец прихворнул в это время, и я волей-неволей должен был поднажать. Но при такой работе меня не надолго хватило: через девять месяцев я остался работать только каменоломом на «Пастуховке». К этому времени я стал оглядываться вокруг себя и подал заявление о вступлении в комсомол при Щегловском рудоуправлении, находившемся от нас в пяти километрах, так что приходилось туда постоянно бегать. Секретарь комсомола Кулешев посоветовал мне организовать у нас ячейку комсомола. Я с жаром принялся за это дело, и в течение месяца у нас сколотилась ячейка в сорок комсомольцев. В том же году я был избран членом сельсовета. В 1926 году я перешел работать бурильщиком на шахту № 8 того же рудоуправления. Раньше я работал на породе, пришлось перейти работать на уголь. Бурка на 8 четвертей оплачивалась 1 рубль 50 копеек. Работа оказалась подходящей: в первый же день я пробурил 6 бурок, потом 8 и в конце месяца бурил уже по 12 бурок в день, т. е. В то время я зарабатывал около 20 рублей в день. Я считал своей обязанностью как комсомолец бороться за повышение нормы. До меня бурильщики делали 4 — 5 бурок в день. Пробурив, уходили домой. Заработок получался достаточный. Через месяц цена за бурку снизилась до 1 рубля 2 копеек, и я стал сверлить по 15 бурок в смену. В течение четырех месяцев цена съехала до 42 копеек, и все-таки заработок получался хороший, примерно рублей 12 в день. Из-за этих бурок несколько рвачей меня чуть не кокнули: подстерегли как-то около шахты, один хватанул меня чем-то и сбил с ног. Но я быстро вскочил и бросился наутек. — Мы тебе покажем, — кричат, — как сбивать цены! В ноябре 1927 года по болезни легких я должен был оставить работу в шахтах и поступил на Макеевский завод. Сначала чернорабочим, потом перешел в оснастчики, потом в помощники машиниста, а через полгода стал машинистом парового крана. Как я уже говорил, я остался без родного отца. Отчим относился ко мне довольно прохладно. В 1921 году умерла моя мать, и отчим женился на другой. Мачеха и есть мачеха. Радости от нее было мало. Жил я дома потому, что у меня было три брата: жалко было оставить их одних у отчима. Мачеха не скупилась, раздавала им «лещей», попросту говоря — колотила. От такой жизни я стал заглядывать понемногу в бутылочку — что там на донышке? Прознал про такое дело секретарь заводской ячейки Михайлов, и вот, бывало, после получки начинает он ко мне подъезжать. Принесет полбутылки, сам не пьет, а мне предлагает. Ну я конечно не отказывался, в привычку вошло. — Чего, — спрашивает, — ты, парень, пьешь? Небось, комсомолец, работник на заводе из первых. С чего это ты? Я горе ему и рассказал: — А выпью — и ничего, не страшно, и все кажется хорошим… После этого, как приспеет получка, он меня разными штуками оттягивает от дружков дня на три. Те в это время пропьются до полушки, и мне уж итти не с кем, а одному неповадно. Так и стал я оттягиваться от пьянки. |

|
|
Как-то раз Михайлов мне говорит: — Работник ты, Холод, хороший, пить, я знаю, ты бросаешь, уже стал меньше пить, — вступай-ка ты в партию! Я послушался и подал заявление. С этого и началась новая моя жизнь, сознательная и умная. На следующий год получил я путевку на учебу: тогда при ВЦСПС были организованы трехмесячные курсы нормировщиков. На курсах я шел хорошо, и мне в виде премии дали путевку в высшую школу профдвижения, где я проучился полгода. Меня приняли без экзамена, но когда я начал учиться, мне было трудно, и я просил после первого семестра ввиду слабой подготовки меня освободить. После этого ЦК союза послал меня в командировку на Чирчикстрой, где я пробыл два месяца. По возвращении поступил работать на метро, на шахту № 8. Я попал в бригаду Воробьева подручным проходчиком. Когда я влез в шахту, оказалось, что она совершенно не похожа на шахты Донбасса, даже названия несвычные, которых у нас нет в шахтерском обиходе, например мартын, марчеванка, хотя марчеванка — это всего-навсего доска, которая загоняется для поддерживания породы, а мартын — та же кувалда пуда в три-четыре. Конечно не в них суть, а в том, что в шахтах Донбасса мы за креплениями не смотрели, и они, сколько хочешь, могли заваливаться. А тут совсем другое дело: лезешь под землю кротом, а над тобой люди в трамваях ездят или дом стоит — тут можно в подножку сыграть! В первые дни мне было работать трудновато, потому что я уже пять лет не занимался физическим трудом, но скоро привык. На метро я работал проходчиком, т. е. головным. Первая лопата — это самая опасная работа, так как все время под риском. На шахте я встретился с плохой организацией труда и рабочего места. Примерно: идем одним забоем, нас четырнадцать человек, а в забое только повернуться — один работает, а десять мешают. С инструментами тоже была досада: кончит смена работу и расшвыряет инструменты куда попало; заступает другая смена — ищет, чего не теряла. Я об этом написал в газету, после чего в шахте появилась кладовая, стало больше порядка. Потом я написал заметку о ТНБ: люди сидят наверху и по слушкам только знакомы с тем, что делается в шахте, а между тем строчат расценку. Я написал, что это должен делать десятник. В результате моей заметки нормировщики были сняты, и расценку стали производить десятники. Подручным проработал я полтора месяца, потом меня назначили звеньевым, ведущим забой самостоятельно, хотя за этот короткий срок я не особенно еще свыкся с работой и не совсем освоил ее. Пришлось так: схожу посмотрю, как сработано в другом забое, потому что хоть и объяснит тебе десятник, но на чужих словах не так это понятно, как на своих глазах. Раз мы работали в забое. Вдруг прибегает инженер Зубков. — Холод, бежим скорее со мной! Прибежали мы в транспортную штольню, глядь — садится, и верхняк уже лопнул. Забойщики за ухом чешут. Быстро поставили ремонтину (стояк), чтобы не завалилась рама, закрепили, и дело пошло. Конечно все это было бы легко сделать и самим забойщикам, которые там работали, но они растерялись, побежали с таким пустяком за инженером. На шахте у меня была тесная связь с парторганизацией, состоявшей из пяти человек: заместителя начальника, секретаря и трех рабочих. Я пришел шестым. Парторг Ермолаев нагрузил меня не хуже верблюда: назначил парторгом в смену, партинформатором, сдал работу по РКК и по комсоду. Конечно как следует я со всем этим справиться не мог, хотя по партинформации меня отмечали с хорошей стороны, а по комсоду наша шахта во время займа вышла первой по метро. |

|
|
Немало пришлось повозиться с людьми. К примеру: раньше неявка на работу была обычным явлением, не вышел — и не надо. Я же поставил это дело на ребрышко: за прогул по причине пьянки увольняли, после чего стали работать дружнее. В мае месяце к нам пришла первая тысяча мобилизованных на метро комсомольцев. В нашу шахту их попало всего семь человек, в мою смену двое — Михайлов и Антонов. Я как парторг прикрепил их сразу к старым рабочим на выучку. Пошли разговоры, что эти новички, никогда шахту не нюхавшие, разбегутся, но получилось наоборот: самые деловые. Мобилизованные комсомольцы были очень преданы делу и быстро освоили работу. У нас был техник Сидоренко, по-моему — рвач. Врезался в память вот почему: четыре раза у нас было опущение грунта — я всякий раз в его смену. Я написал об этом заметку, правда, скрыв свою фамилию, но он узнал. — Если ты, — говорит, — будешь заниматься такими штучками, не работать тебе и не жить! Я об этом сообщил, куда следует. Его было назначили к увольнению, но он сам ушел подобру-поздорову. В целях самокритики я организовал выпуск сменной стенной газеты, в которой критиковались недостатки. Это приносит немалую пользу в работе. 1 января 1933 года у нас создались сквозные бригады, и я был назначен сквозным бригадиром. Как вырастала бригада? Примерно присматриваюсь к людям, вижу — сильные ребята, на работу звери. Подсортуешь так человек двадцать — и вот тебе бригада. Моя бригада была составлена из мобилизованных. Вначале по причине их неопытности часто приходилось самому работать круглые сутки — все четыре смены: боязно было поверить. Первая наша работа — проходка под домом № 10 по Моховой, который имел осадку. Глубина 20 метров, до потолка 17. Дом дал трещину, когда проходили транспортную штольню. Можно сказать — не прошли, а пролезли под этим домом. Бригада наша в этом деле вышла на первое место. 12 января я был выбран на первую партийную конференцию по Метрострою с освобождением от работы. Но я с конференции шел опять на работу до утра, утром немного спал, после чего опять на конференцию, — как белка в колесе. Когда я сидел на конференции, я думал: «Вот я, Холод, несколько лет тому назад штанов на себе не держал, темный человек был, а теперь сижу и разрешаю чуть ли не мировые вопросы». В феврале месяце я из шахты был переброшен на поверхность: на шурфы и сбойку 7-й шахты. Рядом проходила штольня, а в 7 сантиметрах — канализация. Однажды я работал ночью, сменился и уснул в помещении ячейки. Часов в одиннадцать секретарь парткома будит меня: — Холод, твой шурф затопило, беги скорее, там полно воды! Прибежал, гляжу: звеньевой стоит по шею в воде. — Вот, — говорит, — стали пригонять марчеванку, и вдруг как хлопнет на всю вселенную! Вижу, что музыка довольно скверная. Вызвали аварийную, пришла администрация выяснить, в чем дело. Решили, что пробиты канализационные трубы. Я спустился вниз. По запаху и по виду вода не похожа на канализационную. А ниже была шахта № 7, вода туда — рекой. Я побрел по колено в воде, прорубил марчеванку, залез за нее с лампочкой на проводу. Гляжу: одна небольшая труба, дюйма в три, а поперек идет сорокадюймовая большая магистраль. Вода хлещет из нее вовсю, песку вымыло уже уйму, и образовалась пустота метров по пятнадцать в ширину и длину. Рядом был колодец. Я влез в него вместе с мастером Алексеевым и перекрыл трубку резиновой втулкой. Когда я лез обратно, меня стукнуло оборвавшимся со стенки кирпичом, и я чуть не загремел обратно. Почему получилась авария? Когда мы делали проходку, нам говорили, что до сбойки 7-й и 8-й шахт 5,40 метра, а когда произошла авария, оказалось, что всего 70 сантиметров. В свое время я обращался к начальнику участка: сколько, дескать, метров до сбойки? По его словам выходило, что хватит на три дня работы. А мы сделали в один. Получилось так, что из 8-й шахты загнали марчеванку, а мы загнали из своей. Полтора метра было у них и полтора у меня. Началась осадка грунта, грунт нажал на трубу, и она лопнула. Этого можно было избежать, во-первых, если бы администрация имела план подземного хозяйства, она знала бы, что в этом месте находится труба; во-вторых, если бы было предусмотрено, что здесь до сбойки не 5,40 метра, а 70 сантиметров, то можно было бы пробивать только с одной стороны, и аварии бы не было. Благодаря этой чортовой аварии я двое суток не выходил из шахты. |
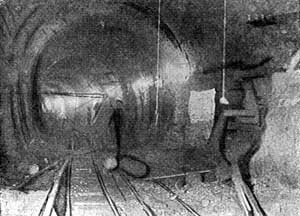
|
|
После окончания шурфов мы перешли на разработку калотт. Сделал я сам небольшой чертежик и указал ребятам, где какая рама, насколько она должна стоять ниже другой и т. д. Благодаря этому дело у нас пошло довольно складно, хотя и тут конечно не обошлось без заминок. Как-то я работал на забое, вдруг слышу — начинает трещать потолок. Треск этот отдается в затылке. Я вылез, смотрю — потолок садится, осел на 7 сантиметров и остановился. Пришлось все переделывать. Если мы весь потолок загнали в одну смену, то на переделку ухлопали четыре. Как раз на другой день прибегает ко мне в забой рабочий и кричит: — Тепа погиб! Я выскочил в двадцать седьмой забой. Гляжу — потолок завален, внизу лежит Тепа, люди стоят и охают. Круглый филат завалился углом, и образовалось пространство, куда попал Тепа. Рука у него угодила под марчеванку, и он не мог вылезти. Народ стоит, а сделать ничего не могут. Я схватил ножовку, повис головой вниз и давай пилить марчеванку, чтобы освободить тепину руку. Когда я отрезал марчеванку, рука у Тепы освободилась, и он упал на песок в фурнель, но не разбился. Меня вытащили за ногу. За это дело я получил премию — пятьдесят рублей. Март-апрель 1934 года были у нас очень напряженными по плану. Нам надо к 1 мая закончить станцию, а в лесных материалах большой недостаток. У нас в бригаде втайне от начальства была тогда такая установка: прежде чем спускаться в шахту, натаскай себе сам досок и кругляка. Вот до чего разохотились на работу! Ребята приходили часа за два до начала, шарили по дворам и по другим шахтам и к смене поспевали со своим лесом. Один раз был такой случай: я волок доску из Александровского парка, меня поймали, отправили в милицию. Начальник милиции посмеялся и отпустил с миром. Наладили дело и с инструментом, чинили его сами. Таким образом мы сами уплотняли рабочий день. Может и нехорошо это было, только чего сгоряча в работе не сделаешь! Потом мы перешли к разработке ядра. Как ни работали, но все-таки не представляли себе, что получится такая махина. Мы шли маленькими штольнями и только при разработке ядра начали представлять себе, какой будет станция: ничего себе сооруженьице-155 метров длины, 11 метров высоты и 15 метров ширины. Она похожа на Брянский вокзал. Когда разрабатывали ядро, побаивались: вдруг рухнет! Тут уж если треснет, ремонтину не поставишь. Надо отметить еще следующее. Хотя я и был членом партии, но до работы на метро был политически малограмотным. На метро я вырос: все лучшее, что у меня сейчас есть, я приобрел на метро. |
 |